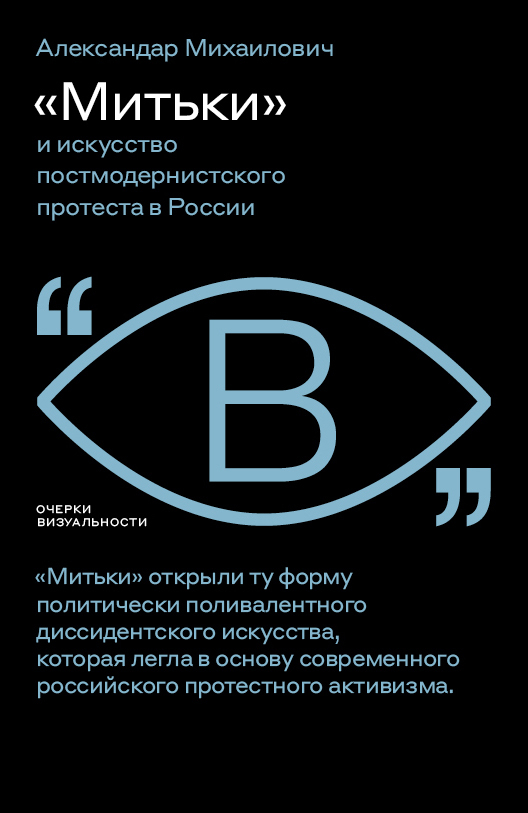о чертах японизма. Зато оба указанных элемента присутствуют в фильме, наряду с другими деталями, позволяющими говорить о кинокартине как о подтексте литературных и художественных произведений Шагина и Шинкарева. По суперобложке видно, что иллюстрированный альбом, содержащий стихотворение Одена и картину Брейгеля, выпущен компанией «World Enterprises», которой владеет и управляет персонаж Боуи. Это заставляет предположить, что он, подобно «Митькам», использует изображение и текст для того, чтобы сообщить миру нечто о себе. Мифический «митек» из книги Шинкарева, как и персонаж Боуи (чья сухая, нередко бесстрастная манера держаться приводит к ряду недоразумений), своим поведением попирают принятые в их окружении социальные нормы и ценности. Подобно Дмитрию Шагину, Томас Джером Ньютон (фамилия героя намекает на силу тяжести, притянувшую его к Земле) стремится к роли лидера, а впоследствии поп-звезды. На озере, где он некогда приземлился, Ньютон строит себе дом с террасой, которую наполняет японскими декоративными деталями, такими как ворота Тории, прозрачные ширмы и татами. У других, например у ученого Нейтана в исполнении Рипа Торна, все эти украшения вызывают удивление. Как и «Митьки» в период расцвета движения, Ньютон — алкоголик. В одном из эпизодов он говорит, что алкоголь вызывает у него галлюцинации, видения женских и мужских тел. Как мы увидим в следующей главе, в «митьковской» мифологии необычная или неоднозначная сексуальность выступает одним из воображаемых последствий (или проявлений) пьянства.
Однако для «Митьков» самым, пожалуй, значимым аспектом фильма стала по видимости бесстрастная игра Боуи, возможно отчасти вдохновленная театром кабуки, который артист начал изучать в конце 1960-х годов под влиянием своего наставника, лондонского танцовщика Линдси Кемпа [183]. В начале фильме присутствует настоящее представление кабуки, причем кадры Ньютона, жадно наблюдающего за актерами, перемежаются сценами любовного свидания Нейтана со студенткой. Судя по всему, Боуи особо интересовала японская театральная традиция «оннагата», предполагающая исполнение женских ролей мужчинами; впервые он опробовал ее в сценических выступлениях «Зигги Стардаста и пауков с Марса». Многие представители ленинградского андеграунда правильно поняли перформативный, всецело искусственный характер образа Боуи. Скорее всего, памятное выступление Бориса Гребенщикова на рок-фестивале в Тбилиси 8 марта 1980 года, когда музыкант изображал эротические отношения с другими участниками группы, было инспирировано отчетами из англоязычной прессы (имевшей хождение в ленинградских рок-кругах, подчас в самиздатских копиях или в альбомах с вырезками, куда также переписывали тексты песен и тщательно перерисовывали обложки альбомов, например «Dark Side of the Moon» [1973] группы «Pink Floyd») о том, как Боуи взаимодействует на сцене с гетеросексуальным гитаристом Миком Ронсоном [184].
Пожалуй, из всех песен Боуи именно «Heroes» 1977 года (где поется о двух влюбленных из страны Восточного блока, которые, мечтая о самоубийственном бегстве из напоминающей тюрьму жизни, воображают себя королем и королевой) оказывается ближе всего к советскому творчеству «Митьков» с характерным для него стремлением вырваться из плена застывших идеологических и поведенческих моделей. Нарастающий электронный гул (заслуга бывшего гитариста «King Crimson» Роберта Фриппа [185], чьи композиции с открытым концом значительно повлияли на музыку и сценические выступления Сергея Курехина, особенно его сатирический проект «Поп-механика») в сочетании с отточенным текстом Боуи об отчаянии человека, зажатого в тисках между Востоком и Западом, вплотную приближаются к творчеству «Митьков» с их вниманием к личности в плену косных бинарных систем и обманчиво легкомысленным подходом к трагическому. Боуи однажды сравнил себя с Пьеро, печальным отвергнутым влюбленным — персонажем комедии дель арте, отметив, что увлечение разными масками привело к глубокой перестройке всего его существа: «Я не мог понять, сочиняю ли я моих персонажей или это они сочиняют меня» [186]. Эти слова идеально укладываются в теоретические построения Джудит Батлер, которая в книге «Отмена гендера» (2004) утверждает, что гендер — это лишь временное, предварительное подспорье в понимании живого опыта сексуальности. Батлер рассматривает гендер как понятие, реальность которого в равной мере определяется перформативным и нормативным аспектами. И здесь, и в других работах Батлер настаивает на неизбежности зазора (и как когнитивного разрыва, и как онтологического зияния) между гендерными нормами и практическим их осуществлением, открывающегося нам при рассмотрении проблемы гендерной идентичности [187]. В книге «Заметки к перформативной теории собрания» (2015) Батлер пишет: «Гендерные нормы имеют самое прямое отношение к тому, какими мы предстаем в публичном пространстве, чем различаются публичное и приватное и как именно это различие инструментализируется для нужд сексуальной политики» [188]. В последней книге Шинкарева говорится, что любого человека следует мыслить как собрание множества ипостасей, чья расстановка может изменяться в пределах усвоенных норм. Эти ипостаси могут — быть может, даже должны — спорить друг с другом. «Отец я или не отец?! Поэт или не поэт?! Гражданин или не гражданин?!» Можно добавить: «Мужчина или не мужчина?!»
В первой книге о «Митьках» Шинкарев писал, что атмосфера ленинградских котельных как нельзя более благоприятствовала процветанию «оптимальной» гендерной идентичности, предполагающей баланс легкомысленного эскапизма и суровых мужских обязанностей. Шинкарев даже посвящает котельным целую главу, опирающуюся на их с Шагиным личный опыт такой работы. Историк Вячеслав Долинин вспоминает в своих записках о жизни ленинградских диссидентов, что в 1970-х — начале 1980-х годов подвалы домов на Адмиралтейской набережной стали прибежищем для многих поэтов-нонконформистов, которые рады были трудиться в котельной за символическую плату в обмен на то, чтобы власти оставили их в покое. Рок-музыканты репетировали в подвалах, что дало Владимиру Рекшану, некогда игравшему в рок-группе, повод сказать: «Выходит, это была подвальная музыка» [189]. В котельных можно было заниматься и литературным творчеством и даже, судя по нежности, с которой Долинин описывает царившее в них тепло, проводить холодную зиму [190]. До своего ареста за диссидентскую деятельность Долинин был непосредственным начальником обоих организаторов движения, Шагина и Шинкарева, служивших сторожами-кочегарами. Описывая работу в котельной, Шинкарев отмечает, что такой труд требует поистине дзен-буддистской способности к концентрации и достижения духовного «центра тяжести», а в другом месте книги намекает на контркультурное влияние, оказанное на «Митьков» буддизмом, особенно в японской его форме [191].
Чрезвычайно своеобразен сложившийся в творчестве «Митьков» образ родного города, представляющий собой необычное — можно даже сказать, невозможное — сочетание основополагающего мифа о Петербурге как о несокрушимом военном оплоте империи с буддийскими идеями бренности и неустойчивости отношений субъекта с материальным миром. К такой мифологизации российского флота отсылает Иосиф Бродский, писавший, что флот «был мечтой о безупречном, почти отвлеченном порядке, державшемся на водах мировых морей, поскольку не мог быть достигнут нигде на российской почве». «Черная как смоль отцовская шинель с двумя рядами желтых пуговиц» — контраст между светлым и